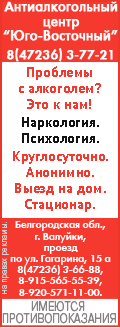Грехи наши смертные…
28.11.2019
Стояла такая ночь! Мороз трещал как никогда. Луна освещала весь хутор и, казалось, от ее холодного серебряного света спрятаться было невозможно. Снегом замело всё: и хату по самые окна, и ветхие сарайчики, и старый овин, где давно уже не было овец. Курятник — и тот едва выглядывал растерзанной своей крышей из-под сугроба. И эта страшная лавчонка была почти полностью заметена и стояла еще невиноватая ни в чем…
Тишка, мальчонка лет семи, спавший на печи крайним, услышал какой-то шорох, слабый стон и тяжелые шаги отца. Свесив голову с печки, он увидел, что отец несет что-то большое и несуразное к входной двери. Тихонько, чтобы не разбудить многочисленное семейство, сполз Тишка с еще теплых кирпичей печи и голыми ножками своими, на цыпочках, затаив дыхание, пошел за отцом. Отец и помыслить не мог, что следит за ним пара любопытных детских глаз.
Тот год выдался особенно голодным. Детей в семье прибавлялось, а достаток утекал, будто сквозь дырявое мамкино решето. Помещик жил в Петербурге, жаловаться было некому, а старый хромой приказчик забирал по осени всё, что попадалось ему на глаза. Ходил по хуторам и селу, тыкая палкой всюду. Даже под пол забирался, чтобы опустошить всё до ниточки. Оставлял только сено, картошку, да немного зерна для посадки на весну. Уж и прятали от него зерно, даже в землю закапывали, да он везде находил и еще пуще прежнего зверствовал.
«Уж будет скоро вам конец», — шептались мужики в селе. «Слышали, что столица поднимается? Сам поп Гапон повел народ к царю!» Да так никто ничего и не понял, а в хуторах жизнь шла своим чередом.
Бабка померла еще летом, хоть и не старая совсем была, да надорвалась от тяжкого труда. К Ильину дню похоронили. Дед долго плакал, часто ходил на могилку, будто предчувствовал беду. А к концу осени совсем слёг. Руки-ноги отказали, речь отнялась. День и ночь лежал на лавке за дверью. Только и мог, что мычать тихонько да глазами своими непонятного цвета – то ли голубыми, то ли зелеными — водить по сторонам.
— Уж когда его бог приберёт! — ворчала вечно беременная мать, — обиходь его, корми, а мне детям-то дать нечего, с голоду пухнуть скоро будут.
— Приберёт, приберёт! Недолго ждать осталось, — отвечал отец. — Слаб совсем дед.
Слушал эти речи дед Мишка, что-то мычал, да глаза его бесцветные наполнялись слезами, и слезы эти всё текли и текли, оставляя на ветхом лоскутном одеяльце мокрые пятна.
Вспоминал он свою Марфушу, жену любимую. Огонь была баба! Танцевать любила, петь — лучше её на селе не было певуньи. Так приворожили Мишку глаза её зеленые да тугая рыжая коса. Бывало, распустит Марфа косу эту, расчешет деревянным гребнем, тряхнет головой, и будто золотом горницу засыплет. А какая до работы жадная была! Огород её первый в деревне зеленел раннею рассадою, на сенокосе не было ей равных. А какие пироги пекла! Будто из ничего, а вырастали они в печи с крепкую мужскую ладонь. Особенно он любил с капустой. А уж ласкала она его как! Об этом он старался не вспоминать, чтобы сердце совсем не разорвалось на части. Поэтому и прожила Марфа недолго, что всё делала в полную силу — и любила, и работала, и плясала. Детишки только у них рождались хиленькие и болезненные — дольше 3-5 лет не жили. Один вот Митрофан и остался. Женили его, столярному ремеслу обучили, внуков дождались. С ним век свой доживать и придётся. Доживать…придется… Слезы всё текли и текли…
Холодный пол жёг ступни, но Тишке очень уж хотелось узнать, что понёс отец на улицу, на такой жуткий мороз. Митрофан даже не обул валенки, так босой и понёс поклажу к лавке во дворе, утопая в мягкой перине снега. Разложил на лавке поклажу горькую свою. Всё выровнял, выпрямил ноги и скрюченные руки и быстро побежал в хату, будто боясь вернуться, не понимая еще, что натворил.
Тишка еле успел спрятаться за дверь и еще долго смотрел в окно на щуплую фигурку деда Мишки в сером застиранном исподнем, лежавшем на лавке. Дед не шевелился, не мычал, и только слезы хрустальными бусинками сыпались из его голубых глаз. Да, точно! Голубые были у деда глаза. Теперь они стали синими и стеклянными. Тело вытянулось в струнку, и через время дед Мишка стал ледяной, покрытой инеем мумией.
Тишка и слова такого не слышал никогда — «мумия». Он зевнул, поёжился от холода, тихонько полез на печь и мгновенно уснул, еще не осмысливая произошедшего. Он не слышал, когда отец выходил еще раз, забрать деда. Когда проснулся — в горнице стоял гроб, а в нем дед. Маленький и жалкий. На глазах у мертвеца были медные пятаки, а руки связаны веревкой. Всюду горели свечи, а из кухни раздавался веселый мамкин смех.
— Отмучались, Господи прости, — все время приговаривала Анна.
— Дед Мишка помер! — разнеслось по хуторам. — Да и не жилец он был. Лежачий. Слава Богу, что прибрался рано, детей недолго мучил.
Митрофан прятал глаза от приходивших попрощаться с дедом, новопреставленным Михаилом, баб и мужиков.
— Легко помер, дед-то наш. Ночью, во сне, тихонько и помер, — будто оправдывалась Анна.
— Ну да, слава Богу, теперь с Марфушей своей встретится да расскажет ей, как сынок с невесткой его тут обихаживали да хорошие поминки устроили.
— Митрофан молодец! Хороший сынок! — судачили бабы.
Но Митрофан молчал, всё теребил свою куцую бороденку. Эти слова как ножи втыкались в его тело. Но теперь поздно раскаиваться. Дело сделано.
Прошло тридцать лет. Столько воды утекло! Империалистическая война, революция, гражданская — всё прошло мимо Митрофана. Он сидел тихо, как мышь под полом, в политику не лез, в армию его не брали почему-то, видимо, из-за кучи детей. Анна, жена его, долго болела, да и умерла, прямёхонько на Илью, как баба Марфа, день в день.
Дети Митрофановы, тоже большей своей частью сгинули в вихре войн и революций, уехали кто куда, их, словно осенние листья на ветру, унесло из родного хутора. Век свой он доживал с сыном Тишкой. У Тишки была тоже большая семья, он был тихим, как его имя: Тих-он… Работал счетоводом в колхозе. Шибко умный был, и когда образовали колхоз, все предложили его в счетоводы. Он сидел за конторкой и стучал своими счётами, всегда молчаливый и задумчивый. Не то, чтобы он помнил о смерти деда, просто иногда в памяти мелькала именно та лавочка, занесённая снегом, да трескучий мороз в лунную ночь. А деда он уже и не помнил, только откуда-то взялось и вертелось в голове слово «мумия».
Митрофан после смерти жены все время сидел на той лавочке и плакал, истово молился, повторяя и повторяя: «Господи, прости меня грешного!» После Воздвиженья прямо на проклятой лавочке «хватил его удар», и отца парализовало. Перенесли его в дом, положили на кровать, вызвали батюшку. Он соборовал больного, всё честь по чести. Но приезжий фельдшер, осмотрев Митрофана, сказал, что помрёт он нескоро, просто не будет двигаться. «Не скоро…», — предательски прозвенел звоночек в голове Тихона.
Ну и намучились они с отцом! Надо на работу, а отец, как назло, мычит да чего хочет — непонятно. Сенокос, опять же, его оставить не с кем. То не ест, это не пьет, а сказать ничего не может. Все глаза свои грешные на образа пялит, руку ко лбу тянет да губы шепчут что-то непонятное. А то дрожь к вечеру начнёт его пробирать, оставшиеся зубы стучат, будто страшное что-то видит.
И жену Тишке жалко, измучил совсем её больной отец. Помой его, постирай, переверни за сутки сколько раз!
Ох, луна эта грешная да мороз, её помощник, всё нашептывают Тихону: «Лавочка, лавочка, лавочка… Все грехи она возьмет на себя, никто не узнает, ведь было уже так! Всё просто — возьми и вынеси».
Этот голос звучал и днем, и ночью, особенно он усилился к январю, когда морозы жгучие установились, да дед по ночам так стонать стал, что спать было невозможно. То ли болело у него что, то ли грехи его так стращали, что однажды вскочил среди ночи Тихон, схватил в охапку отца, отнёс его на улицу, на ту, уже ветхую, старую, грешную лавочку. Так же разложил аккуратно, как отец деда Мишку, да быстрее заскочил в сени. Там помолился и пошел спокойно спать.
Год тогда был тридцать седьмой. Уже утаить ничего было невозможно. Будто за каждым сугробом кто-то прятался да высматривал, выслушивал — где враги?
Дали Тихону Митрофановичу десять лет за отцеубийство. И отсидел он их от звонка до звонка, хоть и война шла. Могли на фронт послать, да видно грех его был таким страшным, что даже пули на него было жалко.
Вернулся он к ночи, в январе, опять же. Старый, седой, сгорбленный, потрёпанный каторгой тяжелой и грехом смертным. Зашёл во двор свой родной. Всё порушено было: немец пожег, разбомбил, потоптал сапожищами своими тяжелыми. Хутор пустовал. Хоть война давно закончилась, но жить там было некому. Никто его не встретил, не обнял, не порадовался его возвращению. Остро Тихон почувствовал свою ненужность и грех свой, переданный по наследству. И лавка стояла хоть и старая, но крепкая, будто для чего еще пригодная, манила его к себе. Ветер услужливо сдул остатки снега. Разделся Тихон до исподнего, лёг на лавку, вытянулся весь и замер… Вот и всё. Морозно было поначалу, но потом потеплело. Чьи-то голоса позвали его: Тих-хоон… Всё, нет больше Тишки, и нет греха его семейного. Нашли мёрзлое тельце только по весне…
Рассказала мне всё это бабушка моя — Татьяна Фоминична Бережная. Будто было это в одном из окрестных хуторов. А было или не было, как узнать…
Татьяна Цыбенко
Татьяна Анатольевна Цыбенко живёт в Белгороде. Работает начальником отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Белгородской области. Автор около сотни интересных статей о событиях и людях Белгородчины, основанных на архивных документах. Ведёт историческую рубрику на областном радио. В её творческом багаже — очерки литературно-художественные и опирающиеся на реальные исторические факты. Одну из таких своих работ — «Грехи наши смертные…» — Татьяна Анатольевна предложила для публикации газете «Новости Оскола».

Обсуждение закрыто.