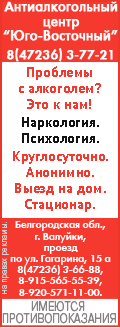Дедушкин дневник
05.11.2023
🖍Первый сын
Ранним июньским утром 1916 года Михаил Никитич (мой отец) спешил в больницу. Там в родильном доме лежала его жена Саня. Лежала уже седьмой раз. Мечта о крошечном мальчишке, которому он передаст фамилию и, может быть, мастерство, подгоняли его, и он шагал все быстрее и быстрее. Шесть дочерей родила ему любимая жена. Шесть раз поздравляла его старая няня Алексеевна с дочкой. Широко и добродушно улыбаясь, открыла Алексеевна двери прихожей. Увидев веселые глаза няни, он понял, что его желание исполнилось, но все же спросил:
— Что?
— С дочкой тебя, Михал Никитич!
Молча, не выражая ни радости, ни огорчения, не спросив о здоровье жены, неловко сунув узелок с передачей няне, повернулся и быстрыми шагами вышел из больницы. Он не слышал, как Алексеевна что-то кричала ему, он не видел, как его мать Прасковья Васильевна подходила к роддому. Опустив голову, ни на кого не глядя, поднимался к центру города.
Когда Прасковья Васильевна вернулась домой, ее встретила тишина. Внучки, из которых в живых остались трое, бегали по улице. А из горницы слышался храп сына.
— Ишь, с радости назюзюкался, — проворчала Васильевна.
— Опять внучка? – спросила вошедшая хозяйка дома, — ну ничего, на то воля Божья. Сына-то как хотел, с горя напился голубчик. Смотрю — идет, пошатывается, спросила, с кем поздравить, махнул рукой – навозная куча, говорит.
— Какая навозная куча? С какого горя? Ты ошалела, Аксиньюшка? Внук, внучек родился!
И начала старуха трясти своего «с горя» напившегося сына. Видно хватил Никитич лишнего — усилия Васильевны пробудить сына были тщетны. Выбившись из сил, схватила скалку и начала молотить ею сына. Орудие Васильевны возымело действия. Михал Никитич приподнял свою хмельную голову.
— Ну что надо, что надо? — повторял он, не понимая происходящего.
— Ах, непутевый. Сынок родился, а он дрыхнет.
— Как сынок? Как сынок? – вскакивая, спрашивал он. – Я был.
— Был, был, — перебила его Васильевна, — Алексеевна пошутила, знает, что ты – девчачий отец, а ты бежать. Кричала же она тебе.
И Михаил Никитич обхватил свою маленькую старую мать, приподнял ее и, повторяя: «Сын, сын!», целовал ее ласковые материнские морщины.
— Да ну ж тебя, разобьешь, — отмахиваясь от него, вырывалась Васильевна.
И обращаясь к Аксинье, смотревшей эту сцену, сказала:
— Ты говоришь, что с горя охмелел, а вот от радости ошалел. Так что, не пойдешь к Сане?
Но сына в комнате уже не было. Быстрыми легкими шагами он летел к своей жене, к своему первому долгожданному сыну.
Долго помнили соседи крестины первого сына. Три дня пир шел горой. Пили за счастье новорожденного, за здоровье родителей, за будущих сыновей. А на четвертый день Васильевна просила взаймы полтинник на хлеб детишкам и на молоко ослабевшей невестке.
🖍Смерть мамы
Не зря пили на моих крестинах за будущих сыновей. Когда мне было четыре года, Ванюше — три, а Никиток только появился на свет. Теперь наша семья была из 9 человек. Девять ртов, девять кусков хлеба, а кругом разруха.
Не знаю истинной причины, но папа не служил ни одного дня в армии, был белобилетчиком. Труд каменщика-созидателя был пока не к месту, и папа занимался тем, чему учился с 11 до 17 лет – сапожничал. С инструментом за плечами ходил от деревни к деревне и каждое воскресенье приносил хлеб, пшено, бурак, иногда сало.
Ранней весной 1920 года умерла бабушка Прасковья Васильевна. Вскоре после, вернувшись из деревни, отец свалился в тифозной горячке. Ох, как тяжело было маме. Отец метался по кровати в жару, то ругался, то тихо стонал. Целая орава полуголодных детей. Мама, мама, мама… А из колыбели несется надрывающий душу крик Никитки: «Уа-уа-уа». Испепеляющие душу мысли о возможной смерти кормильца тупой болью сжимали ее сердце.
Вечером, усадив детишек за стол, мама разливала кипяток с крошечными дольками сахарина. Вдруг поднесенная ко рту чашка выпала из рук. Остатки воды плеснулись на колени и мама, схватившись за сердце, медленно боком начала сползать со стула. Наташа, моя пятнадцатилетняя старшая сестра, удержала ее от падения. Мама умирала. Диким истошным голосом закричала Наташа, а затем мы подняли оглушительный рёв, но отец не слышал.
Утром на том столе, за которым чаёвничали, лежала мертвая мама. Медленно и осторожно выносили из комнаты гроб с ее телом. Женщины плакали. Стряхивая с усов слезы, посапывали мужчины. А отец? Он лежал на кровати и надрывным голосом пел свою любимую песню: «Ревела буря, гром гремел, во мраке молнии…»
Он пел, не сознавая трагедии, постигшей нашу семью. Какое кощунство – петь, когда выносят гроб с телом любимой жены. Но в этом кощунстве не было виновных. Были сироты, которые каждую минуту могли остаться и без отца.
Через две недели после смерти мамы худой и ослабший от боли отец откапывал ее могилу, чтобы на гроб своей жены поставить маленький гробик своего третьего сына – Никитки.
🖍Смерть Ванюши
Мы живем в полуподвале купца Михаила Осиповича Кондрашова. Небольшая полутемная кухня и сырая полутемная горница. Сгорбившись, отец сапожничает. Вчера за ведро бурака Наташа отнесла последнюю мамину вещь – плюшевое пальто. Ванюша – трехлетний, необычайно хорошенький с большими серыми глазами и белокурыми вихрами братишка, выходит из горницы.
— Папа, хлеб есть?
— Нет, сынок, хлеба нет.
— Ну ладно.
Повернулся, заложил руки за спину и степенно ушел в горницу. Таким он мне запомнился на всю жизнь. Таким я часто вспоминаю его, сожалея о его смерти. Умер Ванюша летом 1920 года. А было это так. Заболел корью. Отец опять ходил по деревням, поручив нас старшей дочери Наташе. Какой в то тяжелое время мог быть уход за Ванюшей? Ни лечения, ни питания. Таял Ванюша и уже ходить не мог. Ушла куда-то Наташа. Жаль стало восьмилетней Соне своего братишку. Вынесла она его на улицу, посадила на траву и заигралась с другими детьми. Вспомнила, когда закричал Ванюша. Подскочила, унесла домой. К вечеру поднялась температура у Вани. К утру замолчал. Замолчал навсегда.
Осталось нас пятеро: папа, Наташа, Соня, пятилетняя Лида и я. За полгода семья наша лишилась четырех родных. Вскоре заболел и я. С высокой температурой, голый, вымазанный дегтем, бегал по улице, но выжил.
🖍Мачеха
Трудно было папе. Не могла старшая дочь заменить детям мать. Обовшивели, грязные, полуголодные. Кто-то посоветовал отвести в приют. «Там будут и одеты, и обуты, и сыты».
И вот стоим мы на крыльце приюта. Красные от слез глаза у Наташи и Сони. Недоумевающие глазенки Лиды. Папа крепко держит меня за руку.
— Дети мои…
И вдруг папа присел на крыльцо, обхватил руками голову и зарыдал… Быстро поднялся.
— Айда домой.
И опять начал уходить в деревни сапожничать. Хозяйствовать оставалась Наташа. Как-то в воскресенье отец ушел в город. Вернулся он не один. Вместе с ним пришли его товарищ Дмитрий Егорович и укутанная в шаль женщина. К отцу часто приходили заказчики по сапожному делу, и нас нисколько не удивил приход незнакомки. Но когда она начала снимать с себя бесчисленные шали и платки, овчинную шубу, посматривая на нас, мы почувствовали что-то особое, связанное с ее приходом. А когда появилась на столе бутылка самогона, Наташа, накинув единственный в доме дырявый шерстяной платок, выскользнула в дверь.
О чем говорили взрослые, не знаю, но хорошо запомнилось, как отец, собрав нас вокруг себя, сказал:
— Ну вот, братва, эта тетя заменит вам мать.
Я взглянул на эту тетю, и она мне понравилась. Молодая, лет тридцати, красивая русской деревенской красотой, улыбаясь, смотрела на нас.
— Ну, Шурик, будешь называть меня мамой?
— Буду, — ответил я. И сразу заревел, так как Соня больно ущипнула меня за мою податливую согласность.
Женщина осталась ночевать у нас. А утром, уложив в сани наш небогатый скарб, двинулись мы в деревню, к нашей новой матери. Нет не все. Наташа не поехала, она отказалась признать матерью незнакомую женщину. Она уже чувствовала себя самостоятельной в свои 16 лет.
Большая русская печь. Нас на печи четверо: Соня, Лида, я и Федька – единственный сын нашей мачехи. Костлявый, с некрасивым длинным лицом мальчик. У него все длинное. Длинные ноги и руки, длинная шея и длинный язык, которым он дразнит нас. В кухне прохладно и мачеха подает нам завтрак на печь. Федьке и мне – сметану в глиняных кружках, поверх которых по большому куску черного хлеба. Сестрам – квашеную капусту в деревянном блюде и по маленькому куску хлеба. Соня и Лида с завистью смотрят на Федьку, уплетающего хлеб со сметаной. Передо мною завтрак не тронут. Стыдно мне есть сметану и до слез жалко Соню и Лиду.
Лида просит:
— Ты, Шурик, ешь с нами капусту, а потом нам дашь по глотку сметаны.
С радостью соглашаюсь. Почему по глоточку? Поровну!
— А я мамане скажу, — ехидно говорит Федька.
Опять мамане! До чего же противный этот Федька! Он без конца жалуется матери, должно быть, поэтому она такая злая и шлепает нас. Особенно достается Лиде. Ох, и невзлюбила она её. Кладет спасть на полу к стенке. Лида простыла, кашляет. А ей хоть бы что. Соня и Лида ненавидят мачеху. А я ее не боюсь. Она бьет меня редко, наравне с Федькой. Но мне жаль Соню и Лиду, и я ее избегаю.
Воскресные дни для нас праздник. Папа дома. Значит, все наедятся досыта, не будет подзатыльников, не будем заперты в темной горнице. Девочки жалуются отцу на свою жизнь, на шлепки. Лида жалуется на боли в боку, надо бы в больницу, но до города тридцать верст. Отец чувствует большую обиду детей.
…Ранняя весна 1922 года. Снег еще не растаял, но дороги темные и пахнут навозом. Отец идет рядом с возницей. Трое детей да сапожный верстак – вот и вся поклажа в санях.
Лошадь едва тащится, мы едем обратно в Ямскую. Мачеха и Федька остались там, далеко позади леса, темнеющего на горизонте.
❗(Продолжение следует)
Обсуждение закрыто.